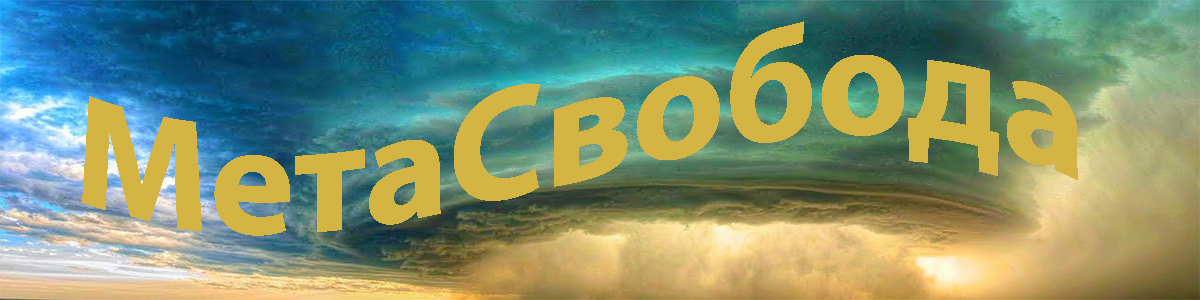Проблемы добывающей угольной промышленности возникли даже не вчера, а уже поза-, поза-, позавчера, вместе с перестройкой и началом развала Советского Союза. Только с начала 2000-х в связи с увеличение экспорта в Китай и весь юго-восточный регион ситуация понемногу выровнялась. При этом приходилось вести уголь за 4 тысячи километров, сжигая на доставке колоссальные бюджетные деньги. По данным РЖД, реальная стоимость перевозки тонны угля из Кузбасса в порты Дальнего Востока превышала 3800 рублей, но угольные компании платили лишь около 2500. Разницу в 1300 рублей с каждой тонны — а это десятки миллиардов в год — доплачивало государство, то есть все российские налогоплательщики. Очень интересно, почему же это делало государство из своего бюджета, а не собственники угольных разрезов! Получается, что собственников, в том числе «эффективных» менеджеров, субсидировало государство, а они «сидели на шее» и эффективно покачивали ножками.
Еще в начале 2010-х годов учёные, умные инженеры и отраслевые эксперты предлагали совершенно иное видение развитие региона и угольной отрасли. Уголь можно превращать в чистую энергию и продукцию с высокой добавленной стоимостью прямо на месте, рядом с угольными разрезами. «Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой непосредственно на бортах угольных разрезов, могла бы быть в разы ниже сетевой — на уровне 1-1,5 рубля за кВт-ч против средних по стране 4-5 рублей, — заявил в 2015 году в интервью «РГ» ведущий научный сотрудник Института энергетических исследований РАН Виктор Кудрявый. — Это создало бы невероятное конкурентное преимущество для любого энергоемкого производства». Уже тогда были реальные технологии: псевдоожиженное слоевое сжигание с КПД до 95%, подземная газификация, парогазовые циклы. Следующим направлением была углехимия. Ещё в 2018 году гиганты «Сибур» и «СУЭК» даже анонсировали грандиозный проект комплекса глубокой переработки угля стоимостью 300 миллиардов рублей. Тогдашний вице-премьер Дмитрий Козак приводил убийственную для сырьевиков цифру: «Переработка 10 млн тонн угля в химическую продукцию дает экономический эффект, сопоставимый с экспортом 50-70 млн тонн рядового угля».
Почему же ничего не было построено? Ответ простой и циничный: модель сырьевого присвоения оказалась проще и выгоднее для узкой группы собственников. Зачем вкладываться в дорогие и сложные переделы, ждать пока новые технологии выйдут на рентабельность и начнут приносить прибыль, если можно было просто «рубить быстрые деньги» на экстенсивной добыче и экспорте? При этом прибыль искусственно поддерживалась всей государственной системой.
До 80% угля экспортировалось через офшорных компании, что позволяло выводить основную массу прибыли из-под российского налогообложения, то есть просто воровать из бюджета страны. По оценкам FinExpertiza, только за три года (2019-2021) бюджет недополучил порядка 450 миллиардов рублей налогов на прибыль. Основная транспортная магистраль Транссиб, на 40% была забита дешевым углем, хотя при этом могла бы зарабатывать сотни миллиардов на транзите дорогих азиатских товаров в Европу.
Прямые потери бюджета исчисляются сотнями миллиардов рублей ежегодно. Упущенная выгода от несозданных производств — это уже триллионы. Переработка хотя бы 30 млн тонн угля в химическую продукцию, как делает южноафриканская компания Sasol, могла бы приносить дополнительно более 500 миллиардов рублей добавленной стоимости в год.
В эти дни в Кемерове с гордостью анонсируют новый проект: майнинговая ферма и электростанция к ней общей стоимостью 5 миллиардов рублей. Обещают, что окупится за четыре года. Напрашивается вопрос, так ли нам нужны олигархи и их эффективные менеджеры? Ответ, мне кажется парадоксальным! ДА, нужны, но в конкретное время и в конкретной ситуации! Это, если можно так сказать и сравнить, — ТАКТИКИ, а нам помимо «тактиков» нужны «СТРАТЕГИ»!